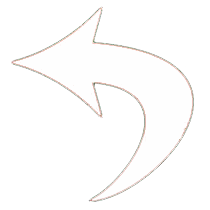| БЕЖА ЛУД | БЕЖИН ЛУГ |
| Вӧлі юль тӧлысся зэв мича лун, сэтшӧм лун, кутшӧмъяс овлӧны сӧмын сэк, кор бур поводдя пуксьӧ дыр кежлӧ. Асывсянь енэжыс сэзь; асъя кыаыс оз ыпъяв пӧжарӧн: сійӧ паськалӧ небыдик алӧй рӧмӧн. Шонді — абу би кодь дон, кыдзи жар да кос дырйи, абу пемыдгӧрд, кыдзи овлӧ лёк поводдя водзын, а яръюгыд да мелі — петӧ векньыдик кузьмӧс кымӧр сайысь, гажаа дзирдыштлас да пырас еджговлӧз ру пытшкӧ. Кузьмӧс кымӧрлӧн вылысладорыс ӧзъяс кыйясӧн; ломалӧмыс эзысьлӧн дзирдалӧм кодь... Но со бара сявкнитісны ворсан югӧръяс, — и гажаа, и кыпыда, быттьӧ лэбӧ вывлань, кайӧ вына, югыд шонді. Лун шӧр гӧгӧр енэжын, вылын, чукӧрмӧны зэв уна гӧгрӧс кымӧръяс, зарни-руд рӧмаӧсь, небыдик еджыд дораӧсь. Быттьӧ паськыда ойдӧм ю вылын діяс, лӧзов сӧдз сынӧдын найӧ пӧшти оз вӧрзьыны места вывсьыныс; водзынджык, енэжтасланьыс, кымӧръяс вешъялӧны, чукӧрмӧны, лӧз сынӧдыс на костӧд оз нин тыдав; но асьныс найӧ сэтшӧм жӧ лазур рӧмаӧсь, кыдзи небеса: югыдӧсь, шоныдӧсь. Енэжлӧн рӧмыс еджговлӧз, кокньыдик, лунтыр оз вежсьыв и быдлаын пыр ӧткодь; некӧн оз пемды, оз сукмы зэра кымӧр; гашкӧ кӧнікӧ ӧшйыласны вылысянь увлань лӧзов визьяс: сэні буситӧ муртса тӧдчыштан зэр. Рытладор тайӧ кымӧръясыс вошӧны; медбӧръяясыс на пытшкысь, сьӧдоватӧсь да рудоватӧсь, быттьӧ тшын, кельыдгӧрд чукӧръясӧн водӧны лэччысь шонділы паныд; сыладорыс, кытчӧ шондіыс лэччӧ сэтшӧм жӧ лӧня, кыдзи петӧ асывнас, алӧй кыалӧн рӧмзьӧмыс недыр сулалас пемдӧм му весьтын, и надзӧник, кусліг-ӧзйылігтыр, быттьӧ зэв виччысигтырйи нуан сись, ӧзъяс енэжын рытъя кодзув. Татшӧм лунъясад став рӧмыс небыдик; югыд, но синтӧ оз ёр; быттьӧ став вылас тыдалӧ кутшӧмкӧ лӧньӧм пас. Татшӧм лунъясӧ мукӧд дырйи овлӧ зэв жар, корсюрӧ весиг «пӧжӧ» муяс скат бокъясын; но тӧлыс вӧтлӧ, разӧдӧ чукӧрмӧм жарсӧ, и гартчысь тӧв ныръяс, — кодъяс петкӧдлӧны мича поводдялысь дыр кежлӧ пуксьӧмсӧ, — еджыд джуджыд сюръяясӧн шӧйтӧны туйяс вывті, муяс вомӧн. Сӧстӧм кос сынӧдын кылӧ полынь дук, вундӧм сю дук, греча дук; весиг вой пуксьытӧдз час войдӧр оз овлы уль ру. Татшӧм поводдя колӧ му вылын уджалысьлы нянь идралігӧн. | Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, — и весело и величава, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты — несомненный признак постоянной погоды — высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба... |
| Дзик вот татшӧм лунӧ ме ӧтчыд таръяс бӧрся кыйси Чернь уездын, Тула губерняын. Кыйи ме вель уна пӧтка; тыра ташка ёна дойдӧ пельпомӧс; рытъя кыа кусӧ нин вӧлі, и сынӧдыс кӧть лэччӧм шонді югӧръясысь эз нин югзьы, вӧлі еджыдалӧ на, но заводитісны нин пемдыны да паськавны кӧдзыд вуджӧръяс, кор ме лӧсьӧдчи, медбӧрти, мунны гортӧ. Тэрыба восьлалі кустъясӧн тырӧм кузь «пласт» вывті, кайи нӧрыс йылӧ, и — веськыдвылысь, тупу вӧра да ылын тыдалысь ляпкыдик еджыд вичкоа места пыдди, ме аддзи дзик тӧдтӧм места. Кок улын куйлӧ вӧлі векньыдик сён; а меным паныдӧн тшем сулалӧ пипу вӧр. Ме сувті, видзӧдлі гӧгӧр... «Со! — думышті: — да тайӧ ме дзик эг сэтчӧ веськав: ме вывті пыри веськыдвывлань», да, аслам ылалӧм вылӧ шензигтыр, ӧдйӧджык лэччи нӧрыс йывсьыс. Ме пырысьтӧм-пыр жӧ веськалі кӧдзыд уль ру пытшкӧ, быттьӧ пыри кӧбрӧгӧ; кузь, сук туруныс сён пыдӧсас вӧлі дзик ва, югъялӧ, быттьӧ еджыд, шыльыд пызандӧра; мунны сэті вӧлі кыдзкӧ шуштӧм. Ме регыдджык кайи мӧдарладорас да мӧді, шуйгавыв сетчӧмӧн, пипу вӧр пӧлӧныс. Бордъя шыръяс лэбалӧны нин вӧлі узьысь пу йывъяс весьтті, шы ни тӧв гӧгралӧны, тіралӧны рӧмыд сынӧдын; ӧдйӧ да веськыда лэбис выліті сёрмӧм варыш, тэрмасис аслас позъяс. «Вот мыйӧн ме пета эсійӧ пельӧсас, — мӧвпала ачым, — сэні пыр жӧ и сюрас туйыс; — а верст мында лишка гӧгӧрті!» | В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился наконец вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидал совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся... «Эге! — подумал я, — да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», — и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тог угол, — думал я про себя, — тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!» |
| Вои коркӧ вӧр дорӧдзыс, но сэні эз вӧв некутшӧм туй; сваль ляпкыдик кустъяс сулалӧны ме водзын гӧгӧр, а кустъяс саяс, ылын-ылын, тыдалӧ тыртӧм эрд. Ме бара сувті. «Мый нӧ тайӧ? Кӧн нӧ ме?» Ме куті мӧвпавны, кыдзи да кытчӧ волі ме лунтырӧн... «Со мый! да тайӧ ӧд Параха кустъяс! — горӧді ме медбӧрти: — Дерт жӧ! Со тайӧ, тыдалӧ, Синдей рас... Да кыдзи нӧ ме татчӧ пыри? Татшӧм ылӧдз?.. Шемӧс! Ӧні бара ковмас веськыдвыв сетчыны». | Я добрался наконец до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далеко-далеко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... «Э! да это Парахинские кусты! — воскликнул я наконец, — точно! вон это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда зашел? Так далеко?.. Странно»! Теперь опять нужно вправо взять». |
| Ме мӧді веськыдвылӧ кустъяс пӧвстӧд. А вой ӧтарӧ матысмӧ, пемдӧ, быттьӧ чардалан кымӧр; кажитчӧ, быттьӧ рытъя уль руыскӧд тшӧтш кайӧ и весиг вылысяньыс тшӧтш киссьӧ пемыдыс. Меным сюри кутшӧмкӧ тырӧм туй, ме мӧдӧдчи туй вывтіыс, видзӧда водзӧ. Ставыс гӧгӧр ӧдйӧ пемдӧ, лӧньӧ, — сӧмын ватшканъяс шочиника горӧдласны. Неыджыд войя лэбач шы ни тӧв уліті лэбзис небыдик бордъяснас, пӧшти зурасис меӧ да садьтӧгыс тювкнитіс бокӧ. Ме петі кустъяс дорӧ да мӧді му борйӧд. Ылысь нинӧм нин он вӧлі вермы рӧзьнитны: ӧдва-ӧдва тыдалыштӧ еджгов муыс; сы сайын ӧтарӧ паськалӧ, матысмӧ шуштӧм пемыд. Кӧдзалысь сынӧдын ӧдва кылӧ менам кок шыӧй. Кельдӧдӧм енэжыс кутіс бара лӧзӧдны, — но сійӧ вӧлі войся лӧз нин. Петісны кодзувъяс, пондісны тіравны, вӧрӧшитчыны небесаын. | Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало, — одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть — но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем. |
| Мый ме чайті раскӧн, сійӧ вӧлӧма гӧгрӧс пемыд нӧрыс. «Да кӧн нӧ тайӧ ме?» — шуи ме бара ыджыд гӧлӧсӧн; коймӧдысь сувті да видзӧдлі аслам пеганӧй виж английскӧй пон вылӧ, Дианка вылӧ — став нёль кокаяс пытшкысь сійӧ вӧлі медвежӧра пемӧс. Но тайӧ вежӧра нёль кока пемӧсыс сӧмын ӧвтыштіс бӧжнас, жугыля видзӧдліс мудзӧм синъяснас и эз сет меным некутшӧм тӧлка сӧвет. Меным лои яндзим сы водзын, и ме ӧдйӧджык мӧдӧдчи водзӧ, быттьӧ друг казялі, кытчӧ колӧ мунны, кытшовті нӧрыссӧ да вои гӧрӧм му вылӧ, сёнӧ. Шемӧс босьтіс менӧ. Сёныс тайӧ вӧлі пӧшти дзик ньывкӧс бокъяса пӧрт кодь; сён пыдӧсас чурвидзӧ-сулалӧ кымынкӧ гырысь еджыд из, — быттьӧкӧ найӧ лэччӧмаӧсь сэтчӧ кутшӧмкӧ гуся сӧвет вылӧ, — и сэтшӧм шы ни тӧв да гажтӧм вӧлі сэні, сэтшӧм улын да сэтшӧм жугыля ӧшалӧ сы весьтын енэжыс, — сьӧлӧмӧй менам быдӧн топавлі. Кутшӧмкӧ ичӧтик звер нора типӧстіс изъяс костас. Ме ӧдйӧджык кайи бӧр нӧрыс йылас. Ӧнӧдз ме пыр на чайта вӧлі корсьны гортӧ мунан туй; но сэки гӧгӧрвои, мый ме дзикӧдз ылалі, да, местаяс вылӧ видзӧдтӧг нин, — пемыдысла пӧшти нинӧм нин вӧлі оз и тыдав, — мӧді веськыда, кодзувъяс серти. Час джын кымын муні ме тадзи, ӧдва кокӧс кыска. Кажитчӧ, нэм эг волывлы ме татшӧм гажтӧминӧ: некӧн оз тыдав би, оз кыв некутшӧм шы. Ӧти ляпкыдик нӧрыс бӧрся мунӧ мӧд сэтшӧм жӧ нӧрыс, помтӧг куйлӧны муяс и муяс, кустъяс быттьӧ мусьыс друг петӧны менам ныр улын. Ме век муна да лӧсьӧдча нин вӧлі водыштлыны кытчӧкӧ асылӧдзыс, кыдз друг ме вои зэв джуджыд кыр дорӧ. | Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» — повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую изо всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших, белых камней, — казалось, они сползлись туда для тайного совещания, — и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам — наудалую... Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной. |
| Ме ӧдйӧджык бӧр дерниті кокӧс да пемыд пырыс аддзи ылысь водзысь зэв паськыд шыльыдін. Меладорсянь мегыр моз кытшовтӧ шыльыдінсӧ паськыд ю; корсюрӧ тӧкӧтьӧ югнитлӧ емдон рӧмӧн ваыс, петкӧдлӧ, кодарӧ визувтӧ юыс. Нӧрысыс, кӧні ме сулала вӧлі, помасьӧ пӧшти зӧм кырйӧн; джуджыд кырйыс, быттьӧ торъя нин пемыдӧн, сьӧдӧн, кыпӧдчӧ лӧзов сынӧдас; дзик менам кок улын, пельӧсас, кӧн кырйыс лэччӧ шыльыдінас, ю дорас, — тані ваыс вӧлі дзик лӧнь, быттьӧ пемыд рӧмпӧштан куйлӧ, — самӧй кыркӧтш улас ыпъялӧны гӧрдӧн, тшынасьӧны ӧти-мӧд дінас кык би. Сэні вуджрасьӧны, нокошитчӧны йӧз, корсюрӧ биыс югдӧдлӧ читкыля ичӧтик юрлысь водзладорсӧ... | Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее теченье. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы... |
| Ме гӧгӧрвои, медбӧрти, кытчӧ менам пырсьӧма. Тайӧ виддзыс матігӧгӧрын вӧлі нималӧ Бежа лудӧн... Но мунны гортӧ некыдз нин эг вермы, торъя нин войын: кокъясӧй менам лигышмунӧмаӧсь мудзӧмла. Ме шуи мунны бияс дорӧ да бидорса йӧзыскӧд, кодъясӧс чайті гуртовщикъясӧн, виччысьны кыа петӧм. Ме лючки лэччи кыр йылысь, но эг на удит лэдзны киысь медбӧръя увсӧ, кытчӧ ме кутчыси, мед ог усь, кыдзи кык ыджыд, кузь гӧна еджыд пон, лёкысь увтігтырйи, уськӧдчисны ме вылӧ. Гора челядь гӧлӧсъяс кылісны би дорын; кык-куим детина ӧдйӧ чеччисны муысь. Ме шыаси налы. Найӧ котӧртісны ме дінӧ, чукӧстісны понъяссӧ, — понъяслы медся дивӧ лои менам Дианкалӧн локтӧмыс, — и ме матыстчи би дорӧ. | Я узнал наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним. |
| Бияс дорын пукалысь йӧзсӧ ме чайті гуртовщикъясӧн. А, вӧлӧмкӧ, тайӧ крестьяна челядь орчча сиктсьыс видзӧны вӧвъяс. Гожся жар пӧраӧ вӧвъясӧс миян вӧтлӧны вой кежлӧ йирсьыны видз вылӧ: лунын гутъясла да лӧдзьясла некутшӧм спокой эськӧ эз вӧв налы. Вӧтлыны рытгорув да вайны асъя кыа петӧм бӧрын вӧв табун — ыджыд праздник крестьяна челядьлы. Шапкатӧмӧсь, важиник пасяӧсь, пукалӧны найӧ медзбой клячаяс вылас, лэбӧны гажаа горзіг, шутьлялігтыр, шенасьӧны кияснаныс, кокъяснаныс, вылӧдз чеччыштласны, гораа сералӧны. Кокньыдик бус виж сюръяӧн кайӧ да вӧтчӧ бӧрсяньыс туй кузя; ылӧдз кылӧ вӧв кок шы; вӧвъяс гӧнитӧны, чошкӧдӧмаӧсь пельяссӧ; медводзын, бӧжсӧ лэптӧма да, помала кокъяссӧ вежлалігтыр, мыськӧ кутшӧмкӧ рыжӧй вӧв, дзугсьӧм бурысяс сибдӧмаӧсь йӧн юръяс. | Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ноги, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве. |
| Ме висьталі челядьлы, ылалі, мися, да пукси на дінӧ. Найӧ юалісны менсьым, кытысь ме, ланьтлісны, вешйыштісны. Ми неуна сёрнитыштім. Ме воді йирӧм коръя куст улӧ да куті видзӧдны. Гӧгӧр вӧлі зэв мича: бияс дорын тіралӧ да быттьӧ кусӧ, вошӧ пемыдас, гӧгрӧс гӧрдов кытш; биыс ыпнитлас да корсюрӧ шыбитлас тайӧ кытш саяс югӧръяс; вӧсньыдик би тювкнитлас, нюлыштас коръястӧм бадь ньӧр да пыр жӧ и вошӧ; кузь, ёсь вуджӧръяс пырыштласны здук кежлӧ, асланыс пайысь котӧртласны би дорӧдз: пемыдыс вермасьӧ югыдкӧд. Мукӧддырйи, кор биыс неуна лӧньыштлас да югыд кытшыс векнявлас, чинлас, пемыдсьыс друг тыдовтчылас сэк вӧв юр, недӧй, либӧ еджыд, — сюся, кузь турун аклялігмоз, веськодя видзӧдлас миян вылӧ да бӧр копыртчас, вошӧ. Толькӧ кылӧ, кыдзи сійӧ йирсьӧ да прыськайтӧ. Югыдінсяньыс омӧля тыдалӧ, мый вӧчсьӧ сэні, пемыдас, сы понда матігӧгӧрсӧ быттьӧ ставсӧ сайӧдӧма вӧлі сьӧд занавесӧн; но ылынджык, енэжтасланяс, тӧкӧтьӧ тыдыштӧны вӧлі нӧрысъяс да вӧръяс. И сӧмын ачыс енэжыс, пемыд да сэзь, пыдӧстӧм выліас зымвидзис миян весьтын став аслас мичлуннас. Лӧсьыд вӧлі сьӧлӧм вылын, — кылӧ кутшӧмкӧ аслыспӧлӧс сӧстӧм дук — гожся вой дук. Некӧн оз кыв пӧшти некутшӧм шы... Буди шочиника юын друг гора гыбыштлас ыджыд чери, да вадорса баддьыс чуть кышакылыштас тӧкӧтьӧ волыштӧм гыысь... Куш бияс надзӧник трачкакылӧны. | Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь, добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах — запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали. |
| Детинкаяс пукалӧны вӧлі би дорын; сэн жӧ пукалӧны и сійӧ кык понйыс, кодъяслы зэв окота вӧлі менӧ сёйны. Найӧ дыр на лӧгалісны ме вылӧ, унзіль синъяснаныс би вылӧ кӧсӧя видзӧдігтыр, корсюрӧ эралісны, асьнысӧ зэв вылӧ пуктігтыр, первойсӧ эралісны, а сэсся кутісны омӧлика никсыны, быттьӧ налы зэв дӧсаднӧ вӧлі, мый эз удайтчы менӧ пурны. Ставыс сэні вӧлі вит детина: Педя, Пашкӧ, Илюш, Кӧсьта да Ваня. (Найӧ сёрни серти ме тӧдмалі налысь нимъяссӧ да кӧсъя ӧні жӧ тӧдмӧдны накӧд лыддьысьысьӧс.) | Мальчики сидели вокруг них; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков был пять: Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.) |
| Медыджыдыслы, Педялы, ті эськӧ сетінныд ар дас нёль. Тайӧ вӧлі лӧсьыдіник мыгӧра, вӧсньыдик, мича нырвома, читкыля еджыд юрсиа, лӧз синъяса, пыр долыда нюмъялысь детинка. Сійӧ вӧлі, тыдалӧ, озыр семьяысь и абу нуждаысь петӧма луд вылӧ, а прӧста, ворсӧм могысь. Вылас сылӧн вӧлі виж каймаа ситеч дӧрӧм; дженьыдик выль армяк, кодӧс плавгӧма мышку вылас, тӧкӧтьӧ ӧшйӧма векньыдик пельпомъясас; югыдлӧз вӧнь помас ӧшалӧ сынан. Дженьыдик гӧленя сапӧгыс сылӧн вӧлі аслас — абу батьыслӧн. Мӧд зонкаыслӧн, Пашкӧлӧн, юрсиыс вӧлі дзуг, сьӧд, синъясыс рудӧсь, черлыясыс паськыдӧсь, чужӧмыс кельыд, писти сера, вомыс паськыд, но лӧсьыд, юрыс зэв ыджыд, кыдз шуласны, сур пӧрт кодь, тушаыс латшкӧс, быттьӧ мусянь тэчӧма. Детинка эз вӧв зэв мича, — мый и шуны! — но меным сійӧ сьӧлӧм вылӧ воис: синъясыс сылӧн вӧліны зэв вежӧраӧсь, видзӧдӧны веськыда, да и гӧлӧсас сылӧн кылӧ вӧлі вынйӧр. Паськӧмӧн тшапитчыны сійӧ эз вермы: став паськӧмыс вӧлі увпыш дӧра дӧрӧм да дӧмасӧсь дӧра гач. Коймӧдыслӧн, Илюшлӧн, чужӧмыс оз вӧлі синмад шыбитчы: нюжалӧм, гӧрба ныра, видзӧдӧ висян, тӧждысян синъясӧн; топӧдӧм паръясыс эз вӧрны, зумыштчӧм синкымъясыс век кынмӧмаӧсь места вылас, — сійӧ быттьӧ пыр куньтыралӧ синсӧ би югӧръясысь. Сылӧн вижов-еджыд юрсиыс кӧса пратьясӧн чурвидзӧ ляпкыдик, ичӧтик гын шапка увсьыс, — шапкасӧ кыкнан кинас ӧтарӧ лэдзлывліс пельӧдзыс. Кокас сылӧн вӧлі выль нинкӧм да еджыд нямӧд; коскӧдыс кыз гезйӧн куим пӧв гартовтӧма, вӧнясьӧма сӧстӧм сьӧд дукӧс вывтіыс. И сылы, и Пашкӧлы, видзӧдны, вӧлі дас кык арӧсысь не унджык. Нёльӧдыс, Кӧсьта, ар даса детинка, кыпӧдліс менсьым любопытствоӧс зумыша да жугыля видзӧдӧмнас. Чужӧмыс сылӧн ичӧтик, косіник, беринӧсь, увланьыс ёсь, урлӧн кодь; вом доръясыс ӧдва тӧдчыштӧны; но торъя нин вӧлі синмад шыбитчӧны сылӧн гырысь, югъялысь сьӧд синъясыс: сідзи и кажитчӧ, быттьӧ найӧ кӧсйӧны мыйкӧ висьтавны, но сэтшӧм кывъясыс, кутшӧмъяс колӧны, сёрниас абуӧсь, — сылӧн абуӧсь сэтшӧм кывъясыс. Сійӧ вӧлі омӧлик, ичӧтик мыгӧра да лёкиник паськӧма. Медбӧръясӧ, Ваняӧс, ме первойсӧ эг и казяв: сійӧ куйлӧ вӧлі муас шы ни тӧв, водӧма рӧгӧза улӧ, толькӧ шочиника мыччывлӧ читкыля русӧй юрсӧ. Тайӧ детинкаыслы вӧлі ар сизим на толькӧ. | Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги — не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, — что и говорить! — а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились — он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, — на его языке по крайней мере, — не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь. |
| Тадзи ме куйла куст улын, бокынджык, да видзӧда зонкаяс вылӧ. Ӧти би вылас ӧшалӧ неыджыд пӧрт; сэні пусьӧ картупель, Пашкӧ сулалӧ пӧрт дорас пидзӧс вылас, зурӧдӧ чагторйӧн пуан ваас. Педя куйлӧ гырддза вылас лэдзчысьӧмӧн, дукӧс пӧлаяссӧ шевгӧдӧма. Илюш пукалӧ Кӧсьтакӧд орччӧн да сідз жӧ пыр видзӧдӧ би вылӧ, куньтыралӧ синъяссӧ. Кӧсьта лэдзӧма юрсӧ да видзӧдӧ кытчӧкӧ ылӧ. Ваня куйлӧ вӧлі шы ни тӧв рӧгӧза улын. Ме ланьті, быттьӧ унмовси. Недыр мысти челядь бара кутісны варовитны. | Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки», Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились. |
| Первой найӧ сёрнитісны ӧти-мӧдтор йылысь, аскиа уджъяс йылысь, вӧвъяс йылысь; но друг Педя бергӧдчис Илюшлань да, быттьӧ орлӧм сёрни выльысь панӧм бӧрын, юаліс сылысь: | Сперва они покалякали о том и сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его: |
| — Но, и мый жӧ, сідзи и аддзылін тэ олысяӧс? | — Ну, и что ж ты, так и видел домового? |
| — Эг, ме сійӧс эг аддзыв, да сійӧс оз и позь аддзыны, — вочавидзис Илюш ичӧтик, сибдӧм гӧлӧсӧн, — гӧлӧсыс тайӧ зэв лӧсялӧ вӧлі сы чужӧмлы: — кывлі... Да и эг ме ӧтнам. | — Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, — отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, — а слышал... Да и не я один. |
| — А сійӧ тіянын кӧні олӧ? — юаліс Пашкӧ. | — А он у вас где водится? — спросил Павлуша. |
| — Важ рольняын. | — В старой рольне * |
| — А ті ӧмӧй пабрикас ветлывланныд? | — А разве вы на фабрику ходите? |
| — Кыдз жӧ, ветлывлам. Ми воккӧд, Ӧвдякӧд, лисовщикын уджалам. | — Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках состоим *. |
| — Видзӧдтӧ — пабричнӧйяс!.. | — Вишь ты — фабричные!.. |
| — Но, кыдз жӧ тэ сійӧс кывлін? — юаліс Педя. | — Ну, так как же ты его слышал? — спросил Федя. |
| — А со кыдзи. Лои миянлы Ӧвдя воккӧд, да Михеёвса Педӧркӧд, да Синпӧла Ивӧкӧд, да мӧд Ивӧкӧд — Гӧрд Керӧсысь, да ещӧ Сухоруков Ивӧкӧд, да ещӧ вӧліны сэні мукӧд детинаяс; став зонпосниыс вӧлі морт дас — став сменаыс дзоньнас; но и лои миянлы рольняын узьны, не быть, — а сідзи лои узьны; надсмотрщик Назаров эз тшӧкты, шуӧ: мый пӧ тіянлы, челядь, гортад кыскасьны; аски уджыс уна, ті, челядь, гортаныд энӧ мунӧй. Вот ми кольччим да куйлам ставным ӧтлаын, и кутіс Ӧвдя сёрнитны, а мый нӧ, зонъяс, олыся кӧ локтас?.. И эз на удит шуны Ӧвдейыд, кыдзи друг миян юр весьтын кодкӧ кутіс ветлӧдлыны; но а куйлам ми вӧлі уліас, а сійӧ кутіс ветлыны выліас, кӧлеса дорас. Кылам ми: ветлӧ, плакаясыс кок улас сідзи и лайкъялӧны, сідзи и дзуртӧны; вот прӧйдитіс сійӧ миян юр весьтті; ваыс друг кӧлеса вывтіыс кыдзи ызӧбтас, ызӧбтас, кӧлесаыс мӧдіс шуркйыны-бергавны; но а пыкӧдъяссӧ дворечыслысь лэдзӧма. Ми шензям: — коді нӧ найӧс лэптіс, мыйла ваыс мӧдіс петны; но а кӧлесаыс бергаліс, бергаліс да и сувтіс. Муніс сійӧ бара ӧдзӧс дорас выліас, да поскӧдыс кутіс лэччыны, да сідзи лэччӧ, быттьӧ оз тэрмась; пос тшупӧдъясыс кок улас быттьӧ ружтӧны... Но локтіс сійӧ миян ӧдзӧс дорӧ, сулыштіс, сулыштіс, — ӧдзӧсыд друг дзирйыв и воссис. Повзим ми, видзӧдам нинӧм абу... Друг, аддзам, ӧти тшанлӧн пожйыс вӧрзис, кайліс, сунліс, ветлӧдліс, ветлӧдліс тадзи сынӧдас, быттьӧ кодкӧ пожъялӧ сійӧс, да и бӧр места вылас пуксис. Сэсся мӧд тшанлӧн крукыс лэччис тув йылысь да бӧр тув йылӧ ӧшйис; сэсся быттьӧ кодкӧ ӧдзӧс дорӧ муніс, да друг кыдз тай кызӧктіс, кыдзи кутіс несъявны, быттьӧ ыж кутшӧмкӧ, да сэтшӧм гораа... Ми сідзи чукӧрӧн и гылалім, мӧда-мӧд улӧ пырим. Ёна жӧ ми сэки повзим! | — А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки; всех было нас ребяток человек десять — как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-то, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а заставки у дворца-то * спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошел тот опять к двери наверху да по лестнице спущаться стал, и этак слушается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал — дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим — ничего... Вдруг, глядь, у одного чана форма * зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напужались о ту пору! |
| — Со ӧд! — шуис Пашӧ. — Мыйла нӧ сійӧ кызіс? | — Вишь как! — промолвил Павел. — Чего ж он раскашлялся? |
| — Ог тӧд; гашкӧ, уль руысла. | — Не знаю; может, от сырости. |
| Ставныс ланьтыштлісны. | Все помолчали. |
| — А мый, — юаліс Педя: — картукыд пусис? | — А что, — спросил Федя, — картошки сварились? |
| Пашкӧ видліс. | Павлуша пощупал их. |
| — Эз на, кын на... Кылан, гыбыштіс, — шуис сійӧ да бергӧдіс чужӧмсӧ юланьӧ: — буракӧ, сир... А со кодзув уси. | — Нет, еще сыры... Вишь, плеснула, — прибавил он, повернув лицо в направлении реки, — должно быть, щука... А вон звездочка покатилась. |
| — Чӧвлы, ме тіянлы, вокъяс, висьтала, — заводитіс Кӧсьта вӧсньыдик гӧлӧсӧн: — кывзӧй, тӧндзи мый тятя ме дырйи висьтавліс. | — Нет, я вам что, братцы, расскажу, — заговорил Костя тонким голоском, — послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал. |
| — Но, кывзам, — быттьӧ ыджыд морт ичӧт мортлы шуис Педя. | — Ну, слушаем, — с покровительствующим видом сказал Федя. |
| — Ті ӧд тӧданныд Габӧӧс, слӧбӧдаса плӧтникӧс? | — Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника? |
| — Но да; тӧдам. | — Ну да; знаем. |
| — А тӧданныд он ті, мыйла сійӧ век сэтшӧм жугыль, пыр чӧв олӧ, тӧданныд? Вот мыйла сійӧ сэтшӧм жугыль. Мунӧма сійӧ ӧтчыд, тятя висьталіс, мунӧма сійӧ вӧрӧ ӧрешки вотны. Вот мунӧма сійӧ вӧрӧ ӧрешки вотны, да и ылалӧма; пырӧма, код тӧдас, кытчӧ. Ветлӧма сійӧ, ветлӧма, вокъясӧй, — оз! оз сюр туйыс; а ывлаын вой нин. Вот и пуксьӧма сійӧ пу дорӧ; вай пӧ виччыся асылӧдзыс, — пуксьӧма да и вугыртӧма. Вот вугыртӧма и друг кылӧ, кодкӧ сійӧс чуксалӧ. Видзӧдӧ — некод абу. Сійӧ бара вугыртӧма, — бара кодкӧ чуксалӧ. Сійӧ бара видзӧдӧ: а сы водзын, ув вож вылын, чери бӧжа ныв пукалӧ, качайтчӧ да сійӧс ас дінас корӧ, а ачыс кочкалӧмӧн сералӧ... А вӧлі тӧлысь югыд, зэв югыд, сэтшӧм югыд, ставыс лючки тыдалӧ. Вот корӧ чери бӧжаыд сійӧс, да сэтшӧм сійӧ ачыс, нылыс, югыд да еджыд пукалӧ ув вож вылын, быттьӧ кутшӧмкӧ ляпапи либӧ гурина, — а либӧ ещӧ гыч овлӧ сэтшӧм жӧ еджгов, эзысь кодь... Габӧ плӧтникыд садьтӧгыс повзьӧма, муса вокъясӧй, а чери бӧжаыд пӧ пыр сералӧ да сійӧс дінас этадз кинас чуксалӧ. Габӧ весиг чеччылас нин, кӧсъяс мунны чери ныв дінӧ, муса вокъясӧй, да, тыдалӧ, ен сетӧма бур мывкыд: сійӧ чӧвтас пернапас... А кутшӧм ӧд сьӧкыд сылы вӧлі пернапасасьнысӧ, муса вокъясӧй; шуӧ: киӧй пӧ дзик из кодь, оз куснясь... Ак, тэ сэтшӧм-татшӧм, а!.. Вот кор сійӧ чӧвтас пернанас, муса вокъясӧй, чери бӧжаыд дугдас серавны, да друг кыдзи бӧрддзас... Бӧрдӧ пӧ сійӧ, муса вокъясӧй, синвасӧ юрсинас чышкалӧ, а юрсиыс турунвиж, быттьӧ пыш. Вот, видзӧдӧма, видзӧдӧма сы вылӧ Габӧыд да и кутӧма сылысь юасьны: «Мый тэ, вӧрса зелля, бӧрдан?» А чери нылыс шуас сылы: «Эн кӧ пӧ эськӧ тэ пернапасась, да олін кӧ эськӧ тэ мекӧд — гажӧдчин нэм чӧжыд; а бӧрда ме, шогся сы понда, мыйла тэ пернапасасин; да ог ӧтнам ме шогсьыны кут: шогсьы жӧ и тэ тшӧтш нэм чӧжыд». Сэки сійӧ, муса вокъясӧй, вошӧма, а Габӧыд эськӧ пыр жӧ и гӧгӧрвоӧма, кыдзи сылы вӧрсьыс петны... А толькӧ сэсянь вот сійӧ пыр жугыльпырысь ветлӧдлӧ. | — А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, — пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился; зашел — Бог знает куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, — нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, — присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит — никого. Он опять задремал — опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется... А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц — все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, — а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, знать, Господь его надоумил: положил-таки на себя крест... А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается... Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет... Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти... А только с тех пор он все невеселый ходит. |
| — Со ӧд! — шуис Педя недыр чӧв олӧм мысти: — да кыдз нӧ сійӧ вермӧ, татшӧм вӧрса омӧльыс, крещенӧй лолӧс тшыкӧдны, — мортыс ӧд сылысь эз кывзы? | — Эка! — проговорил Федя после недолгого молчанья, — да как же это может этакая лесная нечисть хрестиянскую душу спортить, — он же ее не послушался? |
| — Да вот, мун тэ да тӧлкуйт! — шуис Кӧсьта. — И Габӧ висьталӧ, гӧлӧсыс пӧ сылӧн сэтшӧм вӧсньыдик, нориник, жабалӧн кодь. | — Да вот поди ты! — сказал Костя. — И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы. |
| — Тэнад батьыд ачыс тайӧ висьтавліс? — юаліс Педя. | — Твой батька сам это рассказывал? — продолжал Федя. |
| — Ачыс. Ме куйла вӧлі пӧлатьын, ставсӧ кывлі. | — Сам. Я лежал на полатях, все слышал. |
| — Дивӧ! Мыйла сылы шогсьынысӧ?.. А, тыдалӧ, сійӧ чери бӧжаыслы сьӧлӧм вылас воӧма, чуксалӧ кӧ вӧлі сійӧс. | — Чудное дело! Чего ему быть невеселым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его. |
| — Да, сьӧлӧм вылас тэд воӧма! — шыасис Илюш. — Кыдз жӧ! гильӧдны сійӧ кӧнкӧ вӧлі кӧсйӧ, вот сылы мый вӧлі колӧ. Вот мый налы колӧ, чери нывъясыдлы. | — Да, понравился! — подхватил Ильюша. — Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то. |
| — А пӧди и тані кӧнкӧ эмӧсь чери бӧжа нывъясыд, — шуис Педя. | — А ведь вот и здесь должны быть русалки, — заметил Федя. |
| — Абу, — вочавидзис Кӧсьта: — тані сӧстӧм места, паськыдін. Сӧмын тай ваыс матын-а. | — Нет, — отвечал Костя, — здесь место чистое, вольное. Одно — река близко. |
| Ставныс ланьтісны. Друг, кӧнкӧ ылын, кыліс кузя жуньган, пӧшти лӧвтан шы, сэтшӧм шы, кутшӧмъяс кывлӧны мукӧд дырйи дзик шы ни тӧв кадын, кыптӧны, сулалӧны сынӧдын, да надзӧник разалӧны, быттьӧ лӧньӧны. Кывзыны кутан, — быттьӧ нинӧм и абу, а жуньгӧ. Быттьӧкӧ, кодкӧ кузя-кузя горӧдіс кӧнкӧ зэв ылын, а кодкӧ мӧд быттьӧ шыасис сылы вӧрас вӧсньыдик, гажа серамӧн, и тӧкӧтьӧ кылыштан шутёвтӧм шы лэбис ю кузя. Челядь видзӧдлісны мӧда-мӧд вылас, дрӧгмуніны... | Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься — и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули... |
| — Господьӧй-енмӧй! — гусьӧник шуис Илья. | — С нами крестная сила! — шепнул Илья. |
| — Ок, ті, ракаяс! — горӧдіс Пашӧ. — Мый повзинныд? Видзӧдлӧй, картукныд пусьӧма. (Ставныс матыстчисны пӧрт дорӧ да заводитісны сёйны пӧсь картупель: ӧтнас Ваня эз вӧрзьӧдчы места вывсьыс.) Мый нӧ тэ? — шуис Пашӧ. | — Эх вы, вороны! — крикнул Павел. — Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты? — сказал Павел. |
| Но сійӧ эз пет рӧгӧза улысь. Пӧртйыд регыд рекмис. | Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился. |
| — А кывлінныд ті, зонъяс, — заводитіс Илюш: — мый тӧндзи миян Варнавичын вӧлі? | — А слыхали вы, ребятки, — начал Ильюша, — что намеднись у нас на Варнавицах приключилось? |
| — Дӧмӧд вылас? — юаліс Педя. | — На плотине-то? — спросил Федя. |
| — Да, да, дӧмӧд вылын, кырӧм дӧмӧд вылын. Вот кӧні шуштӧминыд, и гажтӧм зэв. Гӧгӧр быдлаын кыръяс, гуранъяс, а гуранъясас быдлаын казюляяс олӧны. | — Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах все казюли * водятся. |
| — Но, мый нӧ вӧлі? висьтав... | — Ну, что такое случилось? сказывай... |
| — А вот мый вӧлі. Тэ, гашкӧ, Педя, он тӧд, а толькӧ миян сэні вӧйӧм мортӧс гуалӧма; а вӧйтчылӧма сійӧ важӧн нин, кор ваыс ещӧ джуджыд на вӧлӧма; толькӧ гуыс сылӧн тӧдчӧ на, да и сійӧ тӧкӧтьӧ тӧдчыштӧ: прӧстӧй нӧрыстор... Вот, лун-мӧд сайын, корӧ приказчик пон видзысьсӧ, Ермилӧс; шуӧ: мун пӧ, Ермил, пошта вылӧ ветлы. Ермил миян пыр пошта вылӧ ветлӧ; понъясыс сылӧн ставыс кулаліны: оз овны найӧ сы ордын мыйлакӧ, некор эз овлыны, а пон видзысь сійӧ зэв эськӧ бур! Вот муніс Ермил поштала вӧлӧн, да и сёрмис карын, но а бӧрсӧ локтӧ сійӧ код юрӧн нин. А кадыс вой, югыд вой: тӧлыся... Вот и локтӧ Ермил помӧд дорті: сэт нин сылы туй лӧсяліс. Локтӧ сійӧ тадзи, пон видзысь Ермил, да аддзӧ: вӧйӧм морт гу вылын баля, еджыд сэтшӧм, читкыля гӧна, зэв мича баля ветлӧдлӧ. Вот Ермил и мӧвпалӧ: час, босьта тайӧс, — сідз жӧ вошӧ-а, и чеччис да босьтіс сійӧс моздорас... Но а баля — немтор. Вот локтӧ Ермил вӧв дінас, а вӧлыс синсӧ сувтӧдӧма, корскӧ, юрсӧ пыркӧдӧ; но Ермил тпрукайтіс, пуксис балякӧд да мӧдӧдчис бара; балясӧ водзас кутӧ. Видзӧдӧ Ермил баля вылӧ, а баля сылы веськыда синмас сідзи и дзоргӧ. Шуштӧм сылы лои, пон видзысь Ермилыдлы: мыйкӧ пӧ тай нӧ ог помнит ме, мый тадзи баляяс кодлыкӧ синмас вермӧны видзӧдны; но, нинӧм; пондӧма сійӧ этадз гӧн ньылыдыс малавны, шуӧма: «балюк, балюк!» А баляыд тай кыдз жергӧдас пиньсӧ, да сылы сідзжӧ: «балюк, балюк»... | — А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могилка его еще видна, да и та чуть видна: так — бугорочек... Вот, на днях, зовет приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелен. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, — что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки... Но а барашек — ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, — говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша...» |
| Эз на удит висьталысьыс помавны тайӧ медбӧръя кывсӧ, кыдзи кыкнан понйыс ӧтпырйӧ чеччыштісны, лёкысь увтігтырйи уськӧдчисны би дорысь да вошины пемыдас. Став челядьыс повзисны. Ваня чеччыштіс рӧгӧза увсьыс. Пашкӧ горӧдіс да уськӧдчис понъяс бӧрысь. Увтӧмыс налӧн ӧдйӧ ылысмис... Кыліс шызьӧм табунлӧн котралӧм. Пашкӧ гораа горзіс: «Серко! Жучка!»... Кымынкӧ здук мысти увтӧм эз кут кывны; Пашӧлӧн гӧлӧсыс кыліс ылын нин... Тадзи коли ещӧ мыйкӧ дыра; челядь видзӧдісны мӧда-мӧд выланыс, быттьӧ виччысисны, мый лоӧ... Друг кыліс гӧнитысь вӧв кок шы; вӧв сувтіс дзик би дорас; Пашкӧ кутчысис бурысяс да пелька чеччыштіс сы вылысь. Кыкнан понйыс сідзжӧ чеччыштісны би дорӧ да пуксисны, кузя нюжӧдісны гӧрд кывъяссӧ. | Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принесся уже издалека... Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет... Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки. |
| — Мый нӧ сэні? мый лои? — юалісны зонкаяс. | — Что там? что такое? — спросили мальчики. |
| — Нинӧм, — вочавидзис Пашӧ, шеныштіс кинас вӧв вылӧ: — сідз мыйкӧ понъяс кылӧмаӧсь. Ме чайті, кӧин, — содтіс сійӧ став морӧснас лолалігтыр. | — Ничего, — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, — так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк, — прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью. |
| Ме любуйтчи Пашкӧӧн. Сійӧ вӧлі ӧні зэв мича. Чужӧмыс гӧрдӧдӧма вӧв вылын ӧдйӧ локтӧмысь, ӧзйӧ чужӧмыс повтӧмлунӧн, збойлунӧн, чорыдлунӧн. Весиг ньӧртортӧг, войын, сійӧ нем повтӧг уськӧдчис ӧтнасӧн кӧин вылӧ... «Кутшӧм шань детинка!» мӧвпала ме да видзӧда сы вылӧ. | Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... «Что за славный мальчик!» — думал я, глядя на него. |
| — А аддзылінныд найӧс ли мый, кӧинъяссӧ? — юаліс полысь Кӧсьта. | — А видали их, что ли, волков-то? — спросил трусишка Костя. |
| — Кӧиныд тані век уна овлӧ, — вочавидзис Пашӧ: — да найӧ дӧзмӧдчӧны сӧмын тӧлын. | — Их всегда здесь много, — отвечал Павел, — да они беспокойны только зимой. |
| Сійӧ бара куткыртчис би дорӧ. Пуксигас пуктыліс кисӧ гӧна юр вылас ӧти понйыслы, и дыр эз бергӧдлы юрсӧ радысла пемӧс, нимкодя видзӧдіс син бӧжнас Пашкӧ вылӧ. Ваня бӧр пырис рӧгӧза улӧ. | Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уродил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу. Ваня опять забился под рогожку. |
| — А кутшӧм шуштӧмторъяс тэ миянлы, Илюш, висьтавлін, — заводитіс Педя; сылы, кыдз озыр крестьянин пилы, колӧ вӧлі лоны сёрни панысьӧн (ачыс сійӧ сёрнитӧ вӧлі этша, быттьӧ полӧ асьсӧ уськӧдны на син водзын). — Да и понъясӧс сэтчӧ жӧ кыскис рӧкыд увтны... А збыль, ме кывлі, сійӧ местаыс тіян шуштӧм... | — А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал, — заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство). — Да и собак тут нелегкая дернула залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое. |
| — Варнавичыд?.. Тӧдӧмысь! Дай ещӧ кутшӧм шуштӧм! Сэні не ӧтчыдысь, шуӧны, пӧрысь баринӧс аддзывлӧмаӧсь — кулӧм баринӧс. Ветлӧ пӧ, шуӧны, кузь дукӧса да пыр лӧвтӧ, мыйкӧ мусьыс корсьӧ. Сыкӧд ӧтчыд Трӧпимыч дед паныдасьлӧма: «Мый нӧ пӧ, батюшка Иван Иваныч, корсян мусьыс?». | — Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали — покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и все это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, Иван Иваныч, изволишь искать на земле?» |
| — Трӧпимычыс юалӧма сылысь? — шыасис шензяна чужӧма Педя. | — Он его спросил? — перебил изумленный Федя. |
| — Да, юалӧма. | — Да, спросил. |
| — Но и молодеч жӧ та бӧрын Трӧпимыч... Но, а мый нӧ мӧдыс? | — Ну, молодец же после этого Трофимыч... Ну, и что ж тот? |
| — Орӧдан турун пӧ, шуӧ, корся. Да сэтшӧм сьӧкыда шуӧ, сьӧкыда: — орӧдан турун. — А мый вылӧ тэныд, батюшка Иван Иваныч, орӧдан туруныс? — Личкӧ, шуӧ, гуыс личкӧ, Трӧпимыч; петны колӧ, петны ортсӧ... | — Разрыв-травы, говорит, ищу. — Да так глухо говорит, глухо: — Разрыв-травы. — А на что тебе, батюшка Иван Иваныч, разрыв-травы? — Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон Хочется, вон... |
| — Аддзан, кутшӧм! — шуис Педя: — этша на, тыдалӧ, олӧма. | — Вишь какой! — заметил Федя, — мало, знать, пожил. |
| — Вот шемӧсыд! — шуис Кӧсьта. — Ме думайтлі, поконикъясӧс позьӧ толькӧ кодрасян субӧтаӧ аддзывны. | — Экое диво! — промолвил Костя. — Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть. |
| — Поконикъясӧс быд здук аддзывны позьӧ, — зэв збыльысь шуис Илюш; сійӧ, кыдзи ме казялі, бурджыка мукӧдсьыс тӧдӧ вӧлі став сиктса суеверйӧсӧ... — Но, а кодрасян субӧтаӧ тэ верман аддзывны и ловъя мортӧс, кодлӧн черӧд кувны сійӧ во вылас. Колӧ толькӧ войын пуксьыны вичко папертӧ да пыр туй вылас видзӧдны. Найӧ и мунасны тэ водзті туй вывтіыс, кодлы лоӧ, мися, кувны сійӧ воас. Вот миян колян во Улляна бабӧ вичко папертӧ ветлӧма. | — Покойников во всяк час видеть можно, — с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья... — Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила. |
| — Но, и аддзылӧма сійӧ кодӧскӧ? — юаліс Кӧсьта зэв збыльысь. | — Ну, и видела она кого-нибудь? — с любопытством спросил Костя. |
| — Кыдз жӧ. Первойсӧ сійӧ пукалӧма дыр, некодӧс абу аддзылӧма, немтор абу кывлӧма... толькӧ пӧ пыр быттьӧ пон тадзи увтыштас да увтыштас кӧнкӧ... Друг сэсся аддзӧма: мунӧ туй кузя детина дӧрӧм кежсьыс. Сійӧ видзӧдӧ — Педосеёв Ивӧ мунӧ... | — Как же. Перво-наперво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала... только все как будто собачка этак залает, залает где-то... Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась — Ивашка Федосеев идет... |
| — Сійӧ, коді куліс тулыснас? — юаліс Педя. | — Тот, что умер весной? — перебил Федя. |
| — Сійӧ. Мунӧ пӧ и юрсӧ оз лэптыв... А ӧд тӧдӧма сійӧс Улляна!.. Но, а сэсся аддзӧ: баба мунӧ. Сійӧ видзӧдӧ, видзӧдӧ — ой, тэ, господьӧй! — ачыс Уллянаыс мунӧ туй кузя, ачыс Уллянаыс!.. | — Тот самый. Идет и головушки не подымает... А узнала его Ульяна... Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться, вглядываться, — ах ты, Господи! — сама идет по дороге, сама Ульяна. |
| — Ачыс? — юаліс Педя. | — Неужто сама? — спросил Федя. |
| — Ей-богу, ачыс! | — Ей-Богу, сама. |
| — Но и мый, ӧд сійӧ эз на кув? | — Ну что ж, ведь она еще не умерла? |
| — Да воыс ӧд эз на коль. А тэ видзӧдлы сы вылӧ: ӧдва лолыс! | — Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится. |
| Ставныс бара ланьтыштлісны. Пашӧ шыбитіс би вылӧ кос ув китыр. Сьӧдӧсь лоины увъясыс друг ыпнитӧм би вылын, мӧдісны тричка-трачкакывны, тшынасьны да кутісны куснясьны, лэптыны вывлань сотчӧм помъяссӧ. Би югӧр сявкнитіс тіралігтыр ӧтарӧ-мӧдарӧ, торйӧн нин вывлань. Друг кыськӧ лэбис еджыд гулю, — лэбзис веськыда би югӧрас, шай-пай бергалыштіс ӧти местаын, пӧсь би югӧр улын да воши бордъяснас шпорӧдчигтыр. | Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, — налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами. |
| — Тыдалӧ, гортсӧ воштӧма, — шуис Пашӧ. — Ӧні мӧдас лэбны, кытчӧдз оз зурась кытчӧкӧ, а кытчӧ зурасяс, сэні и узяс кыа петтӧдзыс. | — Знать, от дому отбился, — заметил Павел. — Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари. |
| — А мый, Пашкӧ, — шуис Кӧстя: — эз-ӧ тайӧ гректӧм лов лэбзьы енэжӧ, а? | — А что, Павлуша, — промолвил Костя, — не праведная ли эта душа летела на небо, ась? |
| Пашӧ шыбитіс би вылӧ мӧд китыр ув. | Павел бросил другую горсть сучьев на огонь. |
| — Гашкӧ и сідз, — шуис сійӧ здук мысти. | — Может быть, — проговорил он наконец. |
| — А висьтав, ноко, Пашкӧ, — заводитіс Педя: — тіян нӧ Шаламовад тыдавліс жӧ небеса петкӧдчылӧмыс? | — А скажи, пожалуй, Павлуша, — начал Федя, — что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное? * |
| — Кор шондіыс эз пондыв тыдавны? Кыдз жӧ. | — Как солнца-то не стало видно? Как же. |
| — Кӧнкӧ повзинныд и ті? | — Чай, напугались и вы? |
| — Да эгӧ сӧмын ми. Бариныд миян, кӧть и водзвыв висьтавліс миянлы, лоӧ пӧ тіянлы петкӧдчылӧм, а кор пемдіс, ачыс, шуӧны, сэтшӧма повзис. А дворӧвӧйяс керкаын пусьысь баба, сійӧ, мыйӧн толькӧ шондіыс пемдыштас, босьтӧма укват да став гырничьяссӧ пачсьыс кучкалӧма, жуглӧма: «Кодлы ӧні сёйнысӧ», шуӧ пӧ, «воис му вежандыр». Сідзи шыдыс и визувтны мӧдӧма. А миян сиктын сэтшӧм, вокӧ, сёрнияс мӧдісны, быттьӧкӧ пӧ еджыд кӧинъяс му вывті кутасны котравны, йӧзӧс сёйны пондасны, морт сёйысь лэбач пӧ лэбзяс, а гашкӧ пӧ, и асьсӧ Тришкасӧ аддзыласны. | — Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба-стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопрестановление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку * увидят. |
| — Кутшӧм Тришкаӧс? — юаліс Кӧсьта. | — Какого это Тришку? — спросил Костя. |
| — А тэ он тӧд? — сьӧлӧмсяньыс заводитіс Илюш. — Но, зонмӧ, кыдз нӧ тэ, Тришкаӧс кӧ он тӧд? Седунъяс жӧ тіян грездын пукалӧны, нач вот седунъяс! Тришка — тайӧ сэтшӧм дивӧ кодь морт, коді локтас. А локтас сійӧ сэтшӧм дивӧ кодь морт, мый сійӧс и кутны оз позь, и немтор сылы вӧчны он вермы: сэтшӧм нин сійӧ лоӧ дивӧ кодь морт. Кӧсъясны, шуам, кутны сійӧс крестьяна: петасны зоръясӧн, босьтасны кытшӧ, но а сійӧ синнысӧ пӧртмалас налысь — сідзи пӧртмалас синъяссӧ, мый асьныс жӧ мӧда-мӧднысӧ и нӧйтасны. Тюрмаӧ сійӧс пуксьӧдасны, шуам, — сійӧ корас ва юыштны кӧшӧн: сылы ваясны кӧш, а сійӧ сунас сэтчӧ, да и казьтыв, кыдз шулісны. Чептӧн сійӧс дорасны, а сійӧ мӧдас кекӧначны — чепъяс сы вылысь сідзи и усьӧны. Но, и пондас ветлӧдлыны тайӧ Тришкаыс сиктъясті да каръясті;, и кутас тайӧ Тришка, наян мортыс, ылӧдлыны крещенӧй йӧзӧс... Но, а вӧчны сыкӧд нинӧм он вермы... Сэтшӧм нин сійӧ дивӧ кодь, наян морт... | — А ты не знаешь? — с жаром подхватил Ильюша. — Ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка — эвто будет такой человек удивительный, который придет; а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет — так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, — он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется — они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский... ну, а сделать ему нельзя будет ничего... Уж такой он будет удивительный, лукавый человек. |
| — Но да, — водзӧ пондіс висьтавны Пашӧ аслас лабутнӧй гӧлӧсӧн: — сэтшӧм. Вот сійӧс и виччысисны миян. Пӧрысьяс шуисны, вот пӧ, мыйӧн толькӧ заводитчас небеса петкӧдчӧм, Тришка пӧ пыр жӧ и локтас. Вот и заводитчис петкӧдчӧм. Став йӧзыс петісны ывлаӧ, му вылӧ, виччысьӧны, мый лоӧ. А миян, асьныд тӧданныд, местаыс вылын, паськыда ылӧдз тыдалӧ. Видзӧдӧны — друг слӧбӧдасянь, гӧра вывсянь локтӧ кутшӧмкӧ морт, да сэтшӧм тешкодь, юрыс дивӧ кодь... ставныс кыдз горӧдасны: «Ой, Тришка локтӧ! ой, Тришка локтӧ!» да коді кытчӧ веськалӧ! Старӧста канаваӧ пырис; старӧста гӧтыр потшӧс костӧ сибдӧма да лёк горшӧн горзӧ, ассьыныс понсӧ сэтшӧма повзьӧдӧма, мый сійӧ чеп йывсьыс орӧдчас, да потшӧс вомӧн, да вӧрӧ; а Кузькалӧн батьыс, Дӧрӧпеич, чеччыштӧма зӧр пытшкӧ, лажыньтчӧма да пондӧма горзыны лэбач моз: «Гашкӧ пӧ, кӧть лэбачсӧ лов босьтысь врагыд жалитас, оз вӧрзьӧд». Татшӧма ставныс садьтӧгыс повзисны!.. А локтысь мортыс тайӧ вӧлӧм миян пельса вӧчысь, Вавила: выль жбан сійӧ ньӧбӧма аслыс, да юрас тыртӧм жбансӧ и сюйӧма. | — Ну да, — продолжал Павел своим неторопливым голосом, — такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят — вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная... Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» — да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дверную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил да на голову пустой жбан и надел. |
| Детинкаяс ставныс серӧктісны да бара здук мында чӧв олісны, кыдз тайӧ частӧ овлывлӧ, кор йӧз сёрнитӧны ывла вылын. Ме видзӧдлі гӧгӧр: мича да лӧнь сулалӧ войыс; рытъя уль руыс вежсис вой шӧр кос шоныдӧн, и дыр на сійӧ пондас куйлыны небыд эшкынӧн узьысь муяс вылын; кузь кад на коли медводдза асъя горъясӧдз, медводдза кышакылӧмӧдз, медводдза шыясӧдз, медводдза лысва войтъясӧдз. Тӧлысьыс эз тыдав енэжын: сійӧ сёрӧн петӧ вӧлі сэки. Помтӧм зарни кодзувъяс быттьӧ лӧня визувтӧны, ӧти-мӧд бӧрсяньыс дзирдалігтыр, кодзула паськыд еджыд визьӧг вылын, и, збыль, на вылӧ видзӧдігӧн, ті быттьӧ асьныд кыланныд сувтлытӧг да тэрыба муыслысь бергӧдчӧмсӧ... | Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновенье, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли... |
| Кутшӧмкӧ аслыспӧлӧс ёсь, нор шы кыкысь помся кыліс ю весьтын и недыр мысти кыліс мӧдысь кӧнкӧ ылынджык нин... | Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и, спустя несколько мгновений, повторился уже далее... |
| Кӧсьта дрӧгмуні: «Мый нӧ тайӧ?» | Костя вздрогнул. «Что это?» |
| — Тайӧ цапля горӧдіс, — лӧня висьталіс Пашӧ. | — Это цапля кричит, — спокойно возразил Павел. |
| — Цапля, — шуис сы бӧрся Кӧсьта. — А мый нӧ сійӧ, Пашкӧ, ме тӧрыт кывлі рытнас, — шуис сійӧ недыр чӧв олыштӧм бӧрын: — тэ, гашкӧ, тӧдан... | — Цапля, — повторил Костя... — А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером, — прибавил он, помолчав немного, — ты, может быть, знаешь... |
| — Мый нӧ тэ кывлін? | — Что ты слышал? |
| — А со мый ме кывлі. Ме муна вӧлі Изъя Верӧтясянь Шашкинӧ; а муні ме первойсӧ пыр миян ӧрешник кустъяс пӧвстті, а сы бӧрын луг вывті мӧді — тӧдан, сэні, кӧні сугибельыс, — сэн эм бучило, тӧдан, гӧгӧрыс тай ещӧ камыш быдмӧ; вот муна ме тайӧ бучило дінтіыс, вокъяс, да друг тай сійӧ ва гуранас лӧвтыштас кодкӧ, да сэтшӧм нора, нора: у-у... у-у... у-у!.. Ме садьтӧг повзи, вокъяс, пӧраыс ӧд сёр, да и гӧлӧсыс сэтшӧм нориник. Ачыд кӧть тшӧтш бӧрддзы... Мый нӧ эськӧ тайӧ вӧлі? А? | — А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел — знаешь, там, где он сугибелью *выходит, — там ведь есть бучило*; знаешь, оно еще все камышом заросло; вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у... у-у... у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал... Что бы это такое было? ась? |
| — Сійӧ ва гуранас воддза воас, гожӧмнас, вӧр видзысь Акимӧс пӧдтісны шышъяс, — висьталіс Пашкӧ: — гашкӧ, сылӧн лолыс норасьӧ да. | — В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры, — заметил Павлуша, — так, может быть, его душа жалобится. |
| — А ӧд и збыль, вокъяс, — шуис Кӧсьта, паськӧдіс ассьыс и сытӧг нин паськалӧм синъяссӧ. — Ме ог тӧд вӧлі, мый Акимӧс сійӧ ва гуранас вӧйтісны: ме эськӧ не сэтшӧма ещӧ повзи. | — А ведь и то, братцы мои, — возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза... — Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался. |
| — А эмӧсь пӧ ещӧ, шуӧны, сэтшӧм посньыдик лягушаяс, — шуис Пашӧ, — кодъяс сэтшӧм нора горзӧны. | — А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, — продолжал Павел, — которые так жалобно кричат. |
| — Лягушаяс? Но, тайӧ абу лягушаяс... кутшӧм нӧ тайӧ... (Цапля бара горӧдіс ю весьтын.) Эк, этійӧ! — шусис Кӧсьталӧн: — быттьӧ вӧрса горзӧ. | — Лягушки? Ну, нет, это не лягушки... какие это... (Цапля опять прокричала над рекой.) Эк ее! — невольно произнес Костя, — словно леший кричит. |
| — Вӧрса оз горзы, сійӧ кывтӧм, — шыасис Илюш: — сійӧ толькӧ кекӧначӧ да сяргӧ... | — Леший не кричит, он немой, — подхватил Ильюша, — он только в ладоши хлопает да трещит... |
| — А тэ сійӧс аддзылін, вӧрсатӧ, ли мый? — шмонитігтыр юаліс сылысь Педя. | — А ты его видал, лешего-то, что ли? — насмешливо перебил его Федя. |
| — Эг, эг аддзыв, и ен мед видзас сійӧс аддзылӧмысь; но а мукӧдъяс аддзывлӧмаӧсь. Вот кодкӧ лун сійӧ миянлысь мужикӧс бӧбйӧдлӧма: новлӧдлӧма-новлӧдлӧма сійӧс вӧртіыс, да пыр ӧти местаын... Ӧдва югдандорыс гортас петӧма. | — Нет, не видал, и сохрани Бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой добился. |
| — И аддзылӧма сійӧ вӧрсасӧ? | — Ну, и видел он его? |
| — Аддзылӧма. Шуӧ, сэтшӧм нӧ сулалӧ ыджыд, ыджыд, пемыд, сайласьӧ пӧ быттьӧ пу сайӧ, бура он вермы рӧзьнитны, быттьӧ тӧлысьысь дзебсясьӧ, да видзӧдӧ, дзоргӧ паськыд бугыльнас... | — Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, окутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает... |
| — Ой, тэ! — горӧдіс Педя, кокньыдика дрӧгмуныштіс да пыркнитіс пельпомсӧ: — тьпу!.. | — Эх ты! — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами, — пфу!.. |
| — И мыйла татшӧм пежыс му вылас лоӧма? — шуис Пашӧ: — збыльысь? мыйла? | — И зачем эта погань в свете развелась? — заметил Павел. — Не понимаю, право! |
| — Эн видчы: видзчысь, кылас, — ӧлӧдіс сійӧс Илья. Бара чӧв олыштісны. | — Не бранись, смотри, услышит, — заметил Илья. Настало опять молчание. |
| — Видзӧдлӧй жӧ, видзӧдлӧй, челядь, — кыліс друг ичӧтик гӧлӧс Ванялӧн: — видзӧдлӧй кодзувъясыс вылӧ, — быттьӧ малязіяс жуӧны! | — Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, — раздался вдруг детский голос Вани, — гляньте на Божьи звездочки, — что пчелки роятся! |
| Сійӧ мыччис ассьыс челядь чужӧмсӧ рӧгӧза улысь, ӧшйис ичӧтик кулак вылас да ньӧжйӧник лэптіс вывлань мича гырысь синъяссӧ. Став детинкаыс лэптісны синъяснысӧ енэжлань и бура дыр видзӧдісны. | Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились. |
| — А мый, Ваня, — меліа заводитіс Педя: — чойыд тэнад, Анюткаыд, дзоньвидза? | — А что, Ваня, — ласково заговорил Федя, — что, твоя сестра Анютка здорова? |
| — Дзоньвидза, — вочавидзис Ваня неуна пыскыльтан гӧлӧсӧн. | — Здорова, — отвечал Ваня, слегка картавя. |
| — Тэ сылы висьтав, мыйла сійӧ миянӧ оз волывлы?.. | — Ты ей скажи — что она к нам, отчего не ходит?.. |
| — Ог тӧд. | — Не знаю. |
| — Тэ сылы висьтав, мед сійӧ волывлас. | — Ты ей скажи, чтобы она ходила. |
| — Висьтала. | — Скажу. |
| — Тэ сылы висьтав, ме сылы гӧснеч сета. | — Ты ей скажи, что я ей гостинца дам. |
| — А меным сетан он? | — А мне дашь? |
| — Тэныд сета жӧ. | — И тебе дам. |
| Ваня ышловзис. | Ваня вздохнул. |
| — Оз ков, меным оз ков. Сет лучше сылы, сійӧ миян зэв бур. | — Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая. |
| И Ваня бӧр пуктіс ассьыс ичӧтик юрсӧ муӧ. Пашӧ чеччис да босьтіс киас тыртӧм пӧрт. | И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик. |
| — Кытчӧ нӧ тэ? — юаліс Педя. | — Куда ты? — спросил его Федя. |
| — Ва дорӧ, ва гумовтны: ва юыштны окота лои. | — К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить. |
| Понъяс чеччисны да мунісны сы бӧрся. | Собаки поднялись и пошли за ним. |
| — Смотри, эн усь ваас! — горӧдіс сы бӧрся Илюш. | — Смотри не упади в реку! — крикнул ему вслед Ильюша. |
| — Мыйла нӧ усьӧ? — шуис Педя: — сійӧ ӧд видзчысьны вермас. | — Отчего ему упасть? — сказал Федя, — он остережется. |
| — Да, видзчысяс тэд. Быдсямаыс ӧд овлӧ: копыртчас, кутас гумовтны васӧ, а васаыс сійӧс киӧдыс кватитас да кыскас ваас. Бӧрыннас кутасны шуны: уси пӧ зонкаыд ваас... А кутшӧм уси?.. Со-со, камыш пӧвстӧ пырис, — содтіс Илюш кывзысигтыр. | — Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез, — прибавил он, прислушиваясь. |
| Камышыс збыль «кышакывны» кутіс, кыдз шуӧны миян. | Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас. |
| — А збыль абу, — юаліс Кӧсьта: — быттьӧ пӧ йӧй Ӧкулина сэсянь и йӧйталӧ, кыдз сійӧ ваӧ вӧйлӧма? | — А правда ли, — спросил Костя, — что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала? |
| — Сэсянь... Ӧні сійӧ кутшӧм! Но, а шуӧны, войдӧр пӧ зэв мича вӧлӧма. Васа сійӧс тшыкӧдӧма. Тыдалӧ, абу чайтӧма, мый сійӧс регыд лэптасны. Вот сійӧс сэні, ва пыдӧсас, и тшыкӧдӧма. | — С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил. |
| (Ме ачым не ӧтчыдысь аддзывлі тайӧ Ӧкулинасӧ. Ротйысьӧм паськӧма, зэв омӧлик, шом кодь сьӧд чужӧма, гудыр синма нывбаба, и век жер пиня, сійӧ дзонь часъясӧн жӧдзӧ пыр ӧтилаын, кӧнкӧ туй вылын, топыда сюркнялӧма вӧсньыдик кияссӧ морӧс бердас да надзӧник тапикасьӧ места вылас, быттьӧ клеткаын вӧрса звер. Сійӧ немтор оз гӧгӧрво, кӧть мый сылы висьтав, толькӧ сьӧмдӧмӧн шочиника серавлӧ.) | (Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.) |
| — А шуӧны, — водзӧ нуӧдіс сёрнисӧ Кӧсьта, — Ӧкулина пӧ сійӧн и ваӧ шыбитчӧма, мусукыс сійӧс пӧръялӧма да. | — А говорят, — продолжал Костя, — Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул. |
| — Сы понда дзик. | — От того самого. |
| — А помнитан Васяӧс? — жугыля содтіс Кӧсьта. | — А помнишь Васю? — печально прибавил Костя. |
| — Кутшӧм Васяӧс? — юаліс Педя. | — Какого Васю? — спросил Федя. |
| — А вот сійӧс, коді вӧйи, — вочавидзис Кӧсьта, вот самӧй тайӧ юас. А кутшӧм ӧд детинаыс вӧлі! Ок, кутшӧм детина вӧлі! Мамыс сылӧн, Пеклистаыс, кутшӧма сійӧс радейтліс, Васясӧ! И быттьӧкӧ тӧдӧма сійӧ, Пеклистаыс, мый ва помысь сійӧ згинитас. Мӧдас вӧлі Вася миянкӧд, зонпосникӧд, гожӧмын ва дорӧ купайтчыны, — а сійӧ сідзи ставнас и тірзьӧ. Мукӧд аньяс нинӧм, мунӧны миян дінті воръясӧн, тапиктӧны, а Пеклиста пуктас ворсӧ муӧ да кутас писӧ чуксавны: «Бергӧдчы, бергӧдчы, ӧзъян сиськӧй менам! бергӧдчы, дона сӧкӧлӧй менам!» — И кыдзи вӧйи, господь тӧдӧ. Ворсӧ вӧлӧм вадорас, и мамыс сан жӧ вӧлӧма, турун куртӧ; друг кылас, быттьӧ кодкӧ ва вылын булькайтӧ, — видзӧдлас, да толькӧ нин Васялӧн шапкаыс ю кузя кывтӧ. Сэсянь вот и Пеклистаыд абу аслас тӧлк вылас: — локтас да водас сійӧ местаас, кӧні сійӧ вӧйи; водас, да и заводитас сьывны, — помнитад, Васяыс пыр сэтшӧм сьыланкыв сьывліс, — вот сійӧ сьыланкывсӧ и заводитас сьывны, а ачыс бӧрдӧ, бӧрдӧ, енлы норасьӧ... | — А вот того, что утонул, — отвечал Костя, — в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды погибель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться, — она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул. Господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, — глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, — помните, Вася-то все такую песенку певал, — вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько Богу жалится... |
| — А со Пашкӧ локтӧ, — шуис Педя. | — А вот Павлуша идет, — молвил Федя. |
| Пашӧ локтіс би дорӧ, ва тыра пӧртйыс вӧлі киас. | Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке. |
| — Но, челядь, — заводитіс сійӧ недыр чӧв олыштӧм бӧрын: — мыйкӧ абу ладнӧ. | — Что, ребята, — начал он, помолчав, — неладно дело. |
| — А мый? — тэрыба юаліс Кӧсьта. | — А что? — торопливо спросил Костя. |
| — Ме Васялысь гӧлӧссӧ кывлі. | — Я Васин голос слышал. |
| Ставыс сідзи и дрӧгмуніны. | Все так и вздрогнули. |
| — Мый нӧ тэ, мый тэ? — ӧдва вермис шуны Кӧсьта. | — Что ты, что ты? — пролепетал Костя. |
| — Ей-богу! Толькӧ куті ме ва дорас копыртчыны, кыла друг: чуксалӧны менӧ Вася гӧлӧсӧн и быттьӧ ва пыдӧссяньыс: «Пашкӧ, эй, Пашкӧ». Ме кывза, а мӧдыс бара чуксасьӧ: «Пашкӧ, лок татчӧ». Ме вешйи. Но васӧ гумовті. | — Ей-Богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовет: «Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул. |
| — О, господи! О, господи! — шуисны челядь пернапасасигтырйи. | — Ах ты, Господи! ах ты, Господи! — проговорили мальчики, крестясь. |
| Ӧд тайӧ тэнӧ васаыс чуксаліс, Пашӧ, — шуис Педя. — А ми толькӧ сы йылысь, Вася йывсьыс, сёрнитім. | — Ведь это тебя водяной звал, Павел, — прибавил Федя... — А мы только что о нем, о Васе-то, говорили. |
| — Ок, тайӧ лёк примета, — сувтовкерлӧмӧн шуис Илюш. | — Ах, это примета дурная, — с расстановкой проговорил Ильюша. |
| — Но, немтор, мед! — шуис Пашӧ чорыда да пуксис: — ассьыд рӧктӧ он вудж. | — Ну, ничего, пущай! — произнес Павел решительно и сел опять, — своей судьбы не минуешь. |
| Челядь ланьтісны. Тыдалӧ вӧлі, мый Пашӧлӧн кывъясыс пыдӧдз мӧрччисны. Найӧ кутісны водавны би дорӧ, быттьӧ узьны лӧсьӧдчыны. | Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать. |
| — Мый нӧ тайӧ? — друг юаліс Кӧсьта да лэптіс юрсӧ. | — Что это? — спросил вдруг Костя, приподняв голову. |
| Пашӧ кывзысьыштіс. | Павел прислушался. |
| — Тайӧ истанъяс лэбӧны, горзӧны. | — Это кулички летят, посвистывают. |
| — Кытчӧ нӧ найӧ лэбӧны? | — Куда ж они летят? |
| — А сэтчӧ, кӧні, шуӧны, тӧв оз овлы. | — А туда, где, говорят, зимы не бывает. |
| — А эм ӧмӧй сэтшӧм муыс? | — А разве есть такая земля? |
| — Эм. | — Есть. |
| — Ылын? | — Далеко? |
| — Ылын, ылын, шоныд саридз сайын. | — Далеко, далеко, за теплыми морями. |
| Кӧсьта ышловзис да кунис синъяссӧ. | Костя вздохнул и закрыл глаза. |
| Куим часысь нин унджык кадыс коли сэсянь, кор ме вои челядь дінӧ. Тӧлысь петіс жӧ коркӧ, ме сійӧс первойсӧ эг и казяв: сэтшӧм сійӧ вӧлі ичӧтик да векньыдик. Тайӧ тӧлысьтӧм войыс быттьӧ вӧлі сэтшӧм жӧ мича, кыдз войдӧр... Но лэччисны нин пемыд му дортіыс уна кодзув, кодъяс неважӧн на вылын дзирдалісны енэжас; дзикӧдз лӧнис гӧгӧр, кыдзи лӧньлӧ толькӧ асъядор: ставыс вӧлі узьӧ асъя сьӧкыд, чӧскыд унмӧн. Сынӧдын оз нин вӧлі сэтшӧма кыв шоныд войся дукыс, — сэні бара быттьӧ кыптіс уль ру... Дженьыдӧсь гожся войяс!.. Челядьлӧн сёрниыс кусі бияскӧд тшӧтш... Понъяс тшӧтш вугралӧны; вӧвъяс, мыйта ме верми аддзыны найӧс тӧкӧтьӧ тӧдчыштан кодзув югӧръяс пырыс, вӧлі куйлӧны жӧ юрнысӧ лэдзӧмӧн... Ме вугырті; сэсся ойбыртлі. | Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде... Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, передрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, — в нем снова как будто разливалась сырость... Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы... Сладкое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту. |
| Тӧв ру пӧльтыштіс меным чужӧмӧ. Ме восьті синмӧс: — асылыс вӧлі заводитчӧ нин. Некӧн на эз пӧртмась кыа, но югдӧ нин вӧлі асыввылыс. Ставыс кутіс гӧгӧр тыдавны, кӧть и омӧля на эськӧ да. Кельыдруд енэж пондіс югдыны, кӧдздӧдны, лӧзӧдны; кодзувъяс, кор югнитласны тӧкӧтьӧ, кор вошласны; муыс васӧдмис, лапыдмисны коръяс, кӧнсюрӧ кутісны кывны гора шыяс, гӧлӧсъяс, и кокньыдик асъя тӧв мӧдіс ветлыны да жбыръявны му весьтын. Ме тушатырнам воча шыаси асывлы кокньыдик, лӧсьыд йирмӧгӧн. Ме ӧдйӧджык чеччи да муні челядь дінӧ. Найӧ ставныс вӧлі узьӧны, быттьӧ кулӧмаӧсь, чусалан би гӧгӧр; толькӧ Пашӧ лэптыліс юрсӧ да веськыда видзӧдліс ме вылӧ. | Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня. |
| Ме гогниті сылы юрӧн да мӧдӧдчи руалысь ю пӧлӧн. Эг на ме удит прӧйдитны кык верст, кыдзи гӧгӧр сявкнитіс паськыд васӧд видз вылын, вежӧдӧм нӧрысъяс вылын водзын, вӧр дорсянь вӧр дорӧдз, и бӧрвылын, буса кузь туй вылын, багралысь, дзирдалысь кустъясын, разалан ру пырыс лӧзалысь ю вылын, — сявкнитіс медводз кельыдгӧрд, сэсся чим гӧрд, зарниа, том, пӧсь лунъюгыд... Ставыс вӧрзис, садьмис, заводитіс сьывны, ызгыны, сёрнитны. Быдлаын югыд алмазъясӧн пондісны дзирдавны гырысь лысва войтъяс; и меным паныд мичаа да гораа, быттьӧ тшӧтш мыськӧма найӧс асъя лысваӧн, пондісны локны кӧлӧкӧльчи шыяс, и друг ме дінті тӧдса зонкаяскӧд тӧвзис шойччӧм вӧв табун... | Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обагренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, — полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун... |
| Меным жальпырысь лоӧ татчӧ содтыны, мый сійӧ жӧ воас Пашӧ эз ло. Сійӧ эз вӧй: сійӧ кулі вӧв вывсянь усьӧм вӧсна. Жаль, шань вӧлі детинкаыс! | Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень! |
Комиӧн гижис
Молодцова Мария
Молодцова Мария
Рочӧн гижис
Тургенев Иван Сергеевич
Тургенев Иван Сергеевич